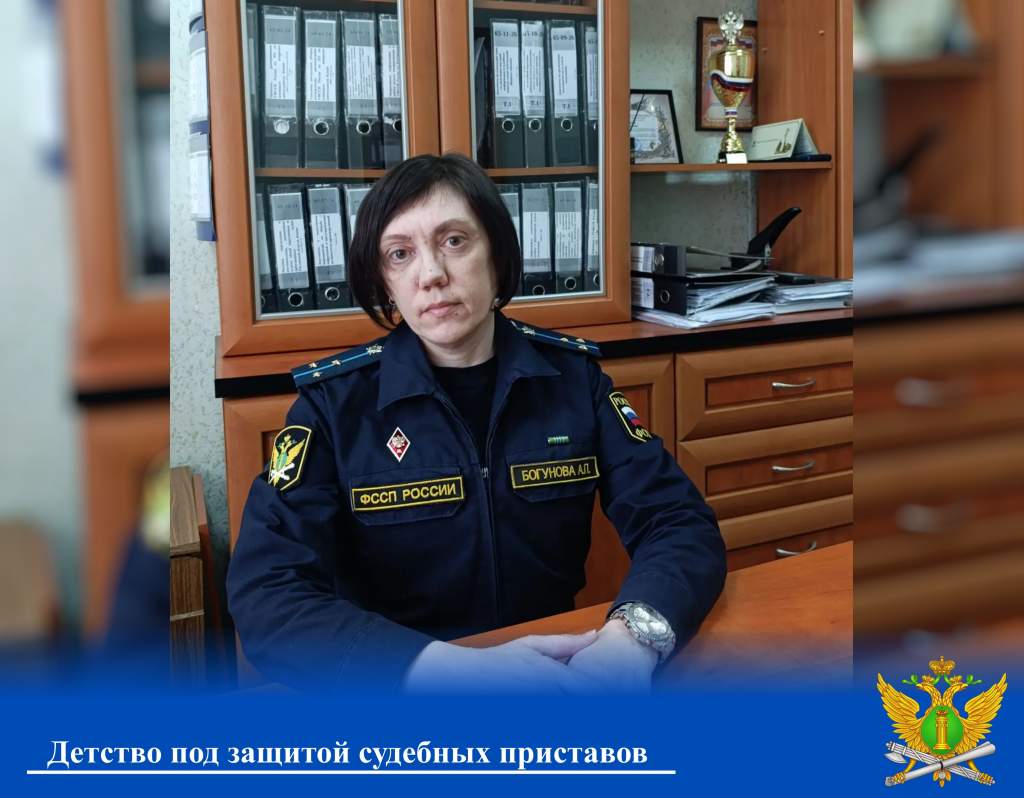Творческий путь писателя, какой он? На этот вопрос может ответить только лишь сам автор или спустя годы его последователи и литераторы. Мы же не будем ожидать размышлений сторонних, далеко не всегда они поспевают в срок. А раз выпала знаменательная дата, расскажем всё как есть, от первого лица. По случаю юбилея нашего земляка, члена Союза писателей России Геннадия Семёновича Колесова, мы публикуем автобиографический очерк писателя, его неповторимое, самобытное творчество. И нас не может не радовать, что в свой юбилей автор полон творческих планов и замыслов, он продолжает создавать новые яркие произведения, вести активную краеведческую работу. А значит, в скором времени, почитатели поэтического таланта Геннадия Семёновича увидят его новые публикации, стихи, рассказы, повести.
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА ЖИЗНИ
Так устроена человеческая жизнь, что с каждым прожитым годом она всё ускоряет свой бег. В памяти детство, юность, годы зрелости, напряжённой работы и как-то вдруг наступает период подведения итогов. Не хочется называть это старостью – ещё сильны руки, хорошо видят глаза, сохраняется хорошая память. Но отмеченная в паспорте дата рождения, не совсем привлекательное собственное отражение в зеркале, напоминают: красивый, но всё-таки закат. Вот и прожил я три четверти века. Мой младший товарищ, (а остались рядом лишь младшие), напомнил в поздравлении, что вошёл я в число пожилых граждан. Поправил я его: не пожилых, а поживших – так всё-таки легче воспринимается действительность.
Задуматься о том, как сложилась и как прожита жизнь, оставить воспоминания о ней своим потомкам – самое время. Оцениваю я её весьма самокритично, как череду ошибок, неиспользованных возможностей. С детства увлекался литературой, первый стих, если можно его таковым назвать, написал в шесть лет. Попал в больницу, рисовал батальные сцены с танками, орудиями и самолётами где наши, конечно же, побеждали немцев. Улыбнитесь его звучанию: «Застрочил пулемёт, выстрелила пушка, заревела как корова русская Катюшка…» И пошло… В одиннадцать лет состоялась первая публикация в районной газете, к восемнадцати годам набралось несколько тетрадей творений. Правда, большая их часть – любовная лирика, оно и объяснимо — возраст. Казалось бы: хороший аттестат, перечитаны все книги в библиотеке, где работала моя мама — прямой путь в гуманитарный ВУЗ. И тут я делаю первый ошибочный шаг – поступаю в инженерный институт, успешно его заканчиваю. Далее ступени уверенного роста на производстве, срывы по причине прямоты характера и конфликтов с власть имущими, новые подъёмы, но в итоге больших высот в хозяйственной деятельности не достигнуто.
Определённые вехи созидания на Веселовской земле — блестящий, ныне разрушенный животноводческий комплекс в хуторе Каракашев, который мне довелось строить и эксплуатировать. Полюбоваться им приезжали иностранцы, наш опыт и результаты работы были отмечены и описаны в газете «Правда» — это почти как орден на грудь. Без сомнения у нас был коллектив коммунистического труда: асфальт, цветы, связь с каждым корпусом, душевые, столовая, красный уголок с бильярдом, прекрасные показатели. Особо памятны десять лет руководства колхозом. Старался, как мог. Из одиннадцати миллионов долга, принятых при избрании, к финалу осталось всего шестьсот тысяч. Все хутора и фермы связали асфальтовые дороги, работало ряд цехов по переработке продукции, кирпичный завод. Новый стадион, в доме культуры – цветомузыка, в школе – тир, набор новой техники и подаренный участок земли, для врачей – квартиры и оборудование. Надо сказать, подобное в то время было во многих хозяйствах. А вот памятник трактору «Универсал», монумент памяти Бориса Думенко, героев и жертв Гражданской войны – мои осуществлённые задумки. Горжусь! Нормальным будет вопрос читателя: а чего ж ты такой хороший и не председатель сегодня. В роковом для страны девяносто первом году отказал, скажем так, в материальной помощи тогдашнему руководителю района. В лоб сказал из кого он таковую выжимает и поскольку. Последнее — моя политическая ошибка. Стал я безработным…

Выстоять в эту нелёгкую минуту жизни мне помогла моя жена, прекрасные дети, обширные связи и верные друзья. Вскоре с моим другом мы создали небольшую строительную организацию. Наверное, это был зов крови, я вплотную занялся здоровым возрождением казачества. Став первым атаманом юрта, через пять лет построил фамильный дом. Однако, почти как в поэме Маяковского: «…землю попашем, попишем стихи…» — это обо мне. Пахал и писал. Одна, вторая, третья книжка, как итог, пригласили и приняли меня в Союз писателей России, и стало это внутренней потребностью. Выдал около десятка печатных изданий, кучу очерков, на музыку Василия Литвинова написано немало песен, но собой я явно не доволен. Имения мне, как Тургеневу или Толстому Бог не дал, большая часть времени жизни ушла на добычу хлеба насущного и житейскую суету. Приходилось раздваиваться, как следствие этого многое из задуманного пока не осуществлено, а жизнь конечна. Такая исповедь…
Одна из моих книг короткой прозы носит название: «Такое маленькое счастье». А сборник стихов – «Согревайте ваши души». Пусть подборка моих творческих работ согреет Ваши души в это неприютное время. А всем добрым людям, моим землякам и читателям, я желаю большого человеческого счастья.
МОЁ ОТКРЫТИЕ МИРА
Наверно это нереально, но мне кажется, что я помню тебя ребёнком, лежащим на руках у мамы, и вижу надо мной её склонённое ко мне лицо. Светлая тебе память, мамочка! А уж точно первое воспоминание, отложившееся в моей детской памяти – второй половины лета 1949 года. Своеобразный яркий проблеск. Федя Прядкин – мой двоюродный брат, старше меня ровно на двадцать лет, участник войны, в это время приходил в отпуск из армии. Сохранилась фотография, которую он дарил тогда нашей семье. На нём была флотская форма, он нёс меня в наш сад, ещё старый, за огородом, и позволил мне одеть его бескозырку. Всё, больше ничего не помню – бескозырка и ленточки, которые щекотали лицо. Как – то не вспоминаю папу, сестёр того раннего периода. Больше – бабушку мою, Степаниду Зиновеевну. Второй бабушки и обоих дедушек я по определению не мог знать, они ушли из жизни задолго до моего рождения. Она у меня одна была, любимая. Мне три – четыре года, жарко топится «грубка», бабуля греет на ней воду, рядом ставит большое корыто и сажает меня туда. Купает, обязательно приговаривая ласковые слова: «Манушка моя манэнька». Просит: «Мый в ушах, по — за ушьмы» — её натруженные большие пальцы не могут этого сделать, просто не помещаются. Поливает мою головушку тёплой водой, мне не хочется выбираться из корыта, но, в конце концов, она извлекает меня оттуда, ставит на табуретку и вытирает полотенцем. Обновлённого и отмытого, несёт и укладывает на широкую лежанку, в заранее приготовленное ложе. Там я и засыпаю, не слыша, как она по глиняной приступке поднимается туда же, и мы спим вместе до утра. Блаженство! Иногда она рассказывала мне «каску» — сказку, на её хохлацком. Что интересно, сколько себя помню, папа очень жёстко пресекал наши с сёстрами попытки «варнакать», но с бабушкой они часто и по — доброму общались, каждый на своём языке. Бабушка же учила меня счёту, а писать и читать она практически не умела. Зато играла со мной «в дамки» — шашки, я до сих пор люблю эту незамысловатую игру.


Из ранних воспоминаний – аномально снежная и холодная зима 1950 – 51 года. Ходило предание, что ещё осенью какой – то дед предсказал чабанам, уходящим на Чёрные земли, что они «с батожками» вернутся, потеряв своих овец. Так или нет, но пастбища в Прикаспии в ту зиму завалило снегом, неделями мела пурга, массово гибли овцы. Через наше село, Подгорное, шли танки, переоборудованные в бульдозеры, за ними – караваны тракторов с прицепами сена и фуража. Наша односторонняя улица – до самого магазина, школьных зданий, служила скотопрогоном. Осенью по ней шли одна за другой на восток отары, караваны телег, будок с привязанными к ним громадными волкодавами. А после прохода танков оставался широченный тоннель. Сёстры переносили меня через снежный вал и там мы скользались как на катке – оставалось такое гладкое оледенелое основание. Ещё более жестокая зима случилась с 1952 на 53 год. Снега было столько, что папа сначала копал глубокие траншеи к базу, скирде сена, сараям, но за ночь всё заносило. Тогда он стал прокладывать тоннели в полный рост под снегом, а утром на улицу выбираться по лесенке через лаз, укрытый листом фанеры. Взрослые говорили, что сорок дней шёл снег и мела метель. Наст был очень твёрдым, отполированным вьюгами, землянки в селе заносило полностью, одни трубы торчали. Каждый день мужчины ходили и откапывали вход в жильё стариков и вдов, которых было очень много после войны.
Насмотревшись на его работу, я, в отсутствии взрослых, взялся лопаткой копать свой тоннель под снегом. Бабушка готовила еду, сёстры в сопровождении мамы ушли в школу, времени было вволю. Как случилось – не помню, наработавшись, я лёг на снег, любовался, как свет пробивается сквозь наст и заснул. Достали меня ледышкой, наверно папа пришёл на перерыв. Еле отогрели, к ночи резко поднялась температура, утром отнесли на руках в больницу – никакой транспорт просто не ходил по двухметровому снежному насту. Сейчас это кажется нереальным, так изменился климат. Под больничное здание был приспособлен большой деревянный дом, скорее всего реквизированный у раскулаченных казаков и перевезённый в Подгорное. Положили меня в мужскую палату, большую половину времени я пребывал в бреду. Но, очнувшись, ужасно боялся хрипа или храпа тяжело больного деда Карева. Так кричал от страха, что наутро пришла в больницу бабушка и разместили нас обоих в женскую палату. Уже через годы я узнал свой диагноз: экстудативный плеврит, еле выкарабкался, спасибо Анастасии Игнатьевне, нашему бессменному врачу. Не мог ходить, через каждые три часа мне кололи уколы, потом я стал их считать и дошёл до ста сорока четырёх.
Вспоминаю, как однажды проснувшись, я обнаруживал в землянке отгороженного лавками новорожденного телёнка. Рядом с печкой ему настилали соломы, папа уносил его на каждую дойку к корове, а потом возвращал на место. Это было событием для всей семьи. Объявлялся конкурс имени – он не мог быть безымянным, бабушка варила молозиво — молодое молоко, оно казалось нам, детям, ужасно вкусным. Через несколько дней телёнок перекочёвывал в сарай.
И ещё. Когда взрослые уходили на работу, а сёстры в школу, бабушка учила меня читать «Отче наш». Пока ей позволяло здоровье, она молилась, опускаясь на колени, так глубока была её вера в Бога. Очень смутные воспоминания остались о нашем крещении. Родители были заметными в селе людьми, явно не могли инициировать и разрешить это действо. Кажется мне, что стояла поздняя осень. К богомольной старушке, жившей где – то рядом с маслозаводом, приехал священник. Бабушка одела нас, троих потеплее, и повела туда. Не знаю, как сёстры, но я вспоминаю только темноту, тесноту землянки и крест, которым священник водил перед моим лицом. Так и стали мы крещёными и православными, спасибо бабушке.
С детства у меня была хорошая память. Сестра, Людмила, училась хорошо, а Раиса в начальных классах создавала маме немало проблем. Помнится, мама по несколько раз читает заданные ей стихи, а Рая постоянно путает строки. Я ещё не ученик, сижу, свесив ноги с лежанки, и рассказываю всё стихотворение без запинки. Помню учебники: букварь, «Родная речь», на картинках я увидел лес, большие деревья, в нашей степи ничего подобного быть не могло. Позже, через десятилетия, я вспоминал рассказы бабушки о жизни в Крутике в дореволюционное время, переворотах и революциях, выездах на «кочёвки», эти эпизоды включены в мои работы. Людмила, у которой я пытался уточнить отдельные эпизоды, удивлялась и ничем не могла мне помочь. Часто бабуля брала меня на посиделки с вдовушками – их было много после войны. Укутав в какую – то куртку не по росту, на улице усаживала на глиняную скамейку, выстланную домоткаными половичками. Я получал угощения, чаще всего карамельки – подушечки и слушал беседы на злободневные сельские темы. Иногда они пели печальные песни и просили: «Зиновеевна, выводи». У бабушки был высокий голос, она и вела запев. Светлой памяти моей бабушки посвящено моё стихотворение: «К истокам». Перед поступлением в школу, я немного окреп, закончилось моё беззаботное раннее детство.
ЧТО ТАКОЕ — БЕДА
Покойная мама моя была из поколения, на долю которого выпали все беды двадцатого века. Младенцем едва выжила в голод двадцать первого года. Тринадцатилетней девочкой, отбиваясь ногами и руками, прикрыла своим телом картошку под кроватью, спасая от эмиссаров, пытавшихся выгрести и забрать её в тридцать третьем. Зерно они подчистую вынесли из ларя, обрекая вдову с шестью детьми на голод. Муку, хранившуюся в кадке, бабушка спасла, плеснув туда ведро воды. Запредельная, ничем необъяснимая жестокость.
Бедность не оставляла семью почти до самой войны. Мама, единственная из шестерых детей, смогла закончить среднюю школу и педагогическое училище. Помогал ей и сёстрам старший брат Максим – их главный кормилец. Её, лучшую ученицу, без экзаменов принимали в институт. Пришлось отказаться — не было платьев, пальто, обуви, вернулась учительницей в родное село.
Туда же, волей судьбы, командировали отца для организации почты и сберегательной кассы. Храню его письма к ней, полные любви и нежности. Свататься, как это положено в селе, пришёл он в субботу, так случилось, двадцать первого июня сорок первого года. Мама, по её рассказам, колебалась, стесняясь своей бедности. Дала согласие, увидев, что и на нём ботинки с истёршейся кожей. Почему – то именно эта деталь запомнилась ей на всю жизнь.
А наутро была война. Сразу же принесли повестку Максиму. Плакали, прощались, оказалось – навсегда. Истёк кровью, умер от ран в далёкой Белоруссии. У отца была бронь, сельпо и все бюджетные организации села в то время финансировались через сберкассу. Снять её в период поспешного отступления наших войск, отсутствия связи, руководство не успело. Как – то пережил он пол года нашествия. Степная глубинка, всего два немца составляли оккупационную власть. Предали огню всё имущество маминой школы. Сволочь из местных отнесла им список комсомольцев. Мама была в нём одной из первых. Дать ему ход помешал разгром фашистов под Сталинградом и бегство фашистов из нашей заснеженной степи.
На третий день после освобождения села отец был призван в армию. Мама осталась с маленькой дочкой на руках, как выяснилось позже, в ожидании второго ребёнка – моей сестры. И всё это в условиях жесточайшего голода и полного отсутствия средств для жизни. Папа вернулся с фронта лишь второго февраля сорок шестого года. Как я смеюсь – два дня затратили на производство меня, любимого сына. Я родился в положенный срок, но организм мамы был надорван до крайней степени. Она едва выжила, получив вторую группу инвалидности, вынужденно прекратив преподавание в школе. По её словам хлеба наелись только в тысяча девятьсот сорок девятом году…
Мамочка сделала всё, чтобы мы, дети её, выросли порядочными людьми, получили образование, оставаясь, несмотря на все трудности, предельно добрым, отзывчивым человеком. Для неё, казалось, не существовало плохих людей, её тепло согревало всех, кто был рядом, её любовь была безграничной. Отец рано ушёл из жизни, общение с ней поддерживало и предавало мне силы. Она заражала меня своим оптимизмом и до последних дней – жаждой знаний. Как притчу часто вспоминаю её ответ на мою жалобу о сложности какой – то ситуации. Употребил я при этом термин: беда. Покачав головой, мама, тихо так, видимо вспомнив далёкое прошлое, сказала мне:
«Сынок, разве это беда? Беда, когда детей нечем кормить…» — И стыдно мне стало плакаться. И впрямь, несоизмеримы мои неприятности с тем, что довелось пережить ей.
Меняли мы недавно надгробие на её могиле. Годы прошли, не стали писать традиционное: помним, скорбим. И скорбим и помним. Для нас, детей и внуков, она всегда живая, любящая. Поймите, люди, мою исповедь…
Выбиты на светлом мраморе слова:
«Останется с нами твоя любовь…»


КОНЬ — СПАСИТЕЛЬ
Как и все обстрелянные фронтовики, отец не любил рассказывать о войне. Пулемётчик, первый номер, прошел он от Ростова, при освобождении которого едва не утонул в ледяном крошеве Дона, до Румынии, Болгарии. Домой возвратился лишь в феврале сорок шестого года.
Во время одной из попыток прорыва Миус-фронта его батальон осуществлял разведку боем. Закончилась она неудачей — отец, вместе с выжившими бойцами, попал в плен, был вывезен в каменоломни правобережной Украины. Рассказал он мне уже в году семидесятом, как спасла его от смерти лошадь. Работа в карьере была адова, питание – полу — гнилые овощи и баланда. Пленные массово болели, умирали от истощения, непосильного труда и падения глыб, разлетавшихся во время взрывных работ. Вывозили камень к железной дороге бричками местные, украинцы из пленных. Использовался он немцами для устройства дотов, дзотов на приближавшейся линии фронта.
Вспоминал отец: при взрыве скалы вздыбилась, вырвалась из рук неумелого возницы обезумевшая лошадь, понесла к обрыву. Он, казак, выросший на коне, смог остановить и укротить животное. Поступок был замечен и оценён надсмотрщиками. Подошедший фашист ударом кулака сбил с ног проштрафившегося коневода, жестами потребовал от отца передать тому орудия труда – лом и молот. А его, из раба, каменотёса, перевели в группу извозчиков. Так и выжил. По дороге на станцию помогали продуктами сердобольные женщины, что-то удавалось стащить у немцев из разбомбленных вагонов.
К счастью, в одну из ночей к лагерю прорвались советские танки. Снесли ворота, вышки, разбежались немцы. Тут же лагерь был окружен советскими автоматчиками, неделя после освобождения ушла на неминуемую проверку. Особисты досконально выясняли, кто и при каких обстоятельствах попал в плен. Чаще всего всё заканчивалось направлением в штрафную роту а то и ссылкой, теперь в советские лагеря. Отца спасло от репрессий то, что в момент пленения он догадался примотать красноармейскую книжку кровавым бинтом к внутренней стороне лодыжки и сохранить её в лагере. Он был определён в госпиталь на лечение и на «откорм». А там вновь на плечо знакомый пулемет Дегтярёва, больше года боёв, ранение в Румынии, после Победы служба в комендантских войсках и долгий путь домой, поездом. А от станции Зимовники до села ровно сто километров на родной лошадиной тяге.
В моём домашнем архиве хранится безмерно дорогая мне, потёртая отцовская красноармейская книжка. От него же передалась любовь к лошадкам. Не выживи он в фашистской неволе, я просто не появился бы на белом свете. Спасибо тебе, Лошадь!
Я – КУЗНЕЦ
Я – кузнец. Кую я строки
Из каленых крепких слов.
Тут не просто: руки в боки,
Выжимает, брат, все соки –
Работенка будь здоров!
Закаляю, отпускаю,
Присмотрюсь, прищурив глаз,
Забракую. Горн вздуваю,
До бела разогреваю,
Вновь под молот – весь тут сказ!
Повезет – достану ловко
Пару свежих ладных рифм.
Это – только заготовка,
Далеко не вся поковка,
Далеко еще не стих!
Но начало есть начало…
Только б горн мой не остыл,
Только б слово зазвучало
И в строку надежно встало –
Бог окошко приоткрыл!
Поспешаю. Мне отрадно,
Настроенье поднялось.
Мысли выстроились ладно
Как бойцы в строю парадном,
Что задумано – сбылось!
Сел, придирчиво прослушал
Теплый стих и говорю
Людям добрым, самым лучшим:
Согревайте ваши души
И сердца. Я – вам дарю.
КРЕДО
Не юлил и не ползал,
Не скулил и не лгал,
Синяки да занозы
От судьбы получал.
Не позволила гордость
Хаму выплатить дань,
Получив за покорность
Конуру и лохань.
Все бежал, надрыва
Все бежал, надрывался,
Подлетал – не взлетел,
Вышло – не удержался
На большой высоте.
Понял, нет мне дороги
В мир двуличья и лжи,
Там, где вытеснив Бога,
Черный ворон кружит.
Ничего мне не надо
Не чинов не наград,
Будет главной наградой
Дом над речкой и сад.
Только б счастливы были
И семья и страна,
Только б внуки носили
Прадедов имена.
Нет, судьбу не ругаю,
Жил на свете не зря.
Будут помнить, я знаю
И враги и друзья.
Не искал я покоя,
Дни триумфа знавал,
Я немало построил
И немало создал.
Если драться, то драться,
А любить, так любить…
Мне от Бога воздастся,
Если выпадет жить.
Я храню эту землю
Неба синь и траву,
Полумер не приемлю.
Я – люблю, я живу!